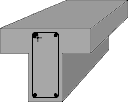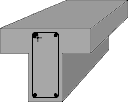Григорий Ревзин.
Александр Дольник мне кажется явлением...
Александр Дольник мне кажется явлением совершенно
исключительным. Я не могу подобрать ему аналогий в нашем пространстве,
то есть в пространстве России. Возможно, в Украине таких много,
но я о них никогда не слышал. Мне он если кажется на что-то похожим,
то на что-то довольно далекое.
Для нас Украина - Запад, так что я попытаюсь поискать что-нибудь
похожее среди западных архитекторов. Они делятся на два типа. Одни
строят по всему миру, и везде примерно одинаково. Другие окапываются
в одной своей земле и ее преображают. Как, скажем, Альваро Сиза
или Сантьяго Калатрава, или столь любимый Дольником Марио Ботта.
Эти - самые интересные. У них есть какая-то своя тема, которая кажется
по-особому закономерной. Вырастающей, что ли, из характера этой
земли, связанной с ней. Архитектура, к которой нет вопросов, почему
она такая, как нет вопросов к горному склону, почему у него такая
форма. Она не правильная и не неправильная. Она просто есть.
Может быть, Йозеф Плечник, создавший Любляну? Все-таки это поразительно,
что сегодня среди нас живет архитектор, работы которого определяют
образ целого города. Ведь, согласитесь, через какие-то 5-7 лет Днепропетровск
станет просто городом Дольника. Вся его центральная часть - с башнями-близнецами,
с торговым комплексом «Вавилон», с комплексом «Амстердам», с синагогой,
с виллами на берегу Днепра - все это станет лицом города. И_это
будет лицо Дольника.
Что тоже странно. Зданий - много. И по функции - жилье, офисы, частные
виллы, храм, музей, торговые комплексы. И по образам - палаццо,
вилла, небоскреб, торговый город. И по материалам. И вообще - по
всему. И тем не менее, во всем этом прочитывается один подчерк,
одна концепция архитектуры. Я знаю очень мало архитекторов со своей
темой. Дольник - один из них.
Здесь особый сюжет. У Дольника есть свой любимый герой - Марио Ботта.
Большинство его решений находят прямые аналогии в творчестве Ботты,
такое ощущение, что получив любой заказ, он пытается максимально
точно представить себе, как бы это сделал Ботта, и потом уже начинает
проектировать. В сегодняшнем контексте, когда архитекторы считают
единственно правильным драть из всех журналов, причем чем новей
источник, тем лучше, такая привязанность к Ботте оказывается своего
рода слабостью. Это если еще учесть, что на волне сегодняшнего неомодернизма
Ботта кажется устаревшей фигурой. Признаюсь, я и сам некоторое время
не понимал, как с этим быть. Как можно говорить, что у Дольника
своя тема, если его тема - Ботта?
Тут есть странность. Потому что если, скажем, архитектор - истовый
поклонник античности, то это можно. Никто не упрекнет его в отсутствии
индивидуальности, и основной проблемой при рассмотрении его творчества
будет то, как именно он интерпретирует античность. С другой стороны,
если архитектор в середине 1990-х заимствовал из Портзампарка, потом
переключился на Фостера, потом на Стивена Хола, а сегодня уже вплотную
подходит к тому, чтобы перепереть на язык родных осин Заху Хадид,
то это вообще очень хорошо, потому что он идет по пути прогресса
и соответствует сегодняшнему дню. А вот если он выбрал себе язык
архитектора, который сегодня не самый модный и не самый последний,
то это почему-то неправильно. Понятно, до какой степени это — условность.
И тем не менее, она существует. Чем больше я над этим размышлял,
тем больше мне становилось ясно, что Дольник, видимо, об этом думает
не меньше меня, а, пожалуй, и больше. И ему не меньше, чем мне понятны
все отрицательные моменты его увлечения. Если это так, то, видимо,
в творчестве Ботты он увидел нечто настолько серьезное, что оно
перевешивает все остальное. Важно понять, что.
Понять можно, только относясь к проблеме также, как, скажем, к палладианству.
Волна палладианства катилась по всей Европе 200 лет и в каждой стране
вбирала в себя что-то местное, и нужно понимать, что оформило собой
палладианство в каждый конкретный момент и в каждой конкретной стране.
Мне кажется, здесь нужно сделать то же самое.
Возьмем виллу «Базилика» Александра Дольника и сравним ее с виллой
Riva San Vitale Марио Ботты (1973). Структурно это вещи очень похожие.
Так же, как и Ботта, Дольник располагает свою виллу на склоне, и
как бы переворачивает ее с ног на голову. Вход осуществляется по
узкому мосту через третий этаж, там, наверху, появляется вестибюль,
а дальше вы спускаетесь в парадную и жилую часть виллы. Есть очевидное
сходство и в стилистике. И вместе с тем, это вещи очень отличные.
Дело не в том, что вилла Дольника строится вокруг атриумного пространства,
которого у Ботты нет. Дело не в том, что у Дольника иные материалы,
металл и кирпич, вместо серого облицовочного камня Ботты. Дело в
принципиально ином образе.
Вилла Ботты разрабатывает тему романтического отшельника. Расположенная
в горах, в безлюдном альпийском пейзаже, она как бы прячется у берега
реки, ее не заметить, всем своим видом она стремится не нарушить
девственность окружающего ландшафта. Вилла Александра Дольника располагается
в очень видном месте. Она является одним из смысловых акцентов всего
придуманного им нового центра Днепропетровска. В этом центре две
поставленные им рядом виллы (рядом с «Базиликой» - вторая, аналогичная
по структуре) вторят двум «близнецам» - небоскребам, а рядом с ними
располагается эспланада, торговая зона, а по другую сторону от них
- его же жилые дома и комплекс «Амстердам».
Это никак не вилла романтического отшельника. Наоборот, это дом
магната, от которого зависит весь окружающий город. Больше всего
это напоминает замок, вокруг которого потом выросли и жилье, и торговля,
и офисы. Этот дом не прячется, он царит. Полностью меняется смысл
всех элементов. Тонкий мост со склона на третий этаж у Ботты выражает
идею хрупкости того уникального ландшафта, в которым расположена
вилла. В этом ландшафте нужно ходить на цыпочках. У Дольника тот
же мост - это типично замковая черта. Она подчеркивает, как опасно
входить в этот замок, какая власть в нем находится. Другие черты,
которые у Ботты отсутствуют, только подчеркивают «замковость» образа.
Это и высокая лестница, ведущая с веранды к газону - сооружение,
словно созданное для того, чтобы хозяин стоял вверху, как статуя,
и внутренний атриум, превращающий дом в замок в чисто морфологическом
смысле (замок с жилыми стенами, как у крестоносцев), и кирпич, создающий
образ крепости, и т.д.
То, что я пытаюсь доказать - одни и те же приемы значат принципиально
разные вещи -может показаться казуистикой. Обычно сегодняшние архитекторы
мыслят совсем не так. Когда она передирают Заху Хадид, они хотят
именно быть похожими на Заху Хадид, а не отличаться от нее. Но в
рамках традиционной архитектуры все именно так и происходит. Палладианство
устроено как раз таким образом, и путь трансформации сельскохозяйственной
виллы Палладио, спрятанной в полях Венето, в дом Пашкова Баженова
- дворец, спорящий со стоящим напротив Кремлем, - очень похож на
тот, которым идет Дольник, превращая дом альпийского отшельника
в замок днепропетровского магната. Это - иная стратегия. Не блеснуть
модной цитатой из чужой речи, но выучить чужой язык, научиться говорить
на нем как на родном, и начать формулировать уже свои мысли.
Какие - свои? Я бы обратил внимание на ту двойственность, которая
присуща языку итальянского постмодернизма 1970-х. С одной стороны,
это язык так или иначе родственный классике, куда в большей степени,
чем, скажем, постмодернизм американский. Здесь классика не цитатна.
Здесь присутствует строгая тектоника, здесь ничто не парит, не падает,
не улетает, здесь все прочно опирается одно на другое. Все имеет
вес и фактуру, стене присуща внутренняя тектоничность слоев кирпича
и камня, из которых она сделана. А с другой стороны - это язык довольно
артикулированно техногенный. Простота геометрии, обнаженность металлоконструкций,
отсутствие декора - все это довольно ясно говорит, что это уже не
скульптурная классика предшествующих эпох, но архитектура той эпохи,
когда вещи руками уже не делают, потому что есть заводы.
В итальянской архитектуре Марио Ботты и Альдо Росси это имело вполне
специфический ностальгический смысл. Они пытались разглядеть свою
великую классическую традицию сквозь архитектуру эпохи «машины для
жилья», и поэтому их архитектура носит довольно острый пассеистический
характер. Ботта вообще может позволить себе глубоко романтические
образы, вроде виллы отшельника или заброшенной часовни в горах,
что-то вроде «Ласточкиного гнезда» постиндустриальной эпохи.
Но в нашем пространстве это воспринимается принципиально иначе.
Вглядитесь в здания Дольника. Вы чувствуете в них хотя бы отдаленный
образ пассеизма? Любования прошлым? Поэтикой дворянской усадьбы?
Я совсем не чувствую. У них принципиально иной дух.
Для нас техногенность в архитектуре навсегда связана с образом авангарда
20-х. Я хочу обратить внимание на одну общую черту русской авангардной
архитектуры. Она вся куда-то летит. Она сделана так, чтобы здания
выглядели как летательные аппараты, на которых можно улететь в светлое
будущее. Такое ощущение, что вот сейчас мы овладеем этой промышленностью,
дадим тяжелую металлургию и устремим полет наших птиц все выше и
выше. Эта архитектура не хочет жить на земле, она хочет упилить
отсюда как можно скорее и как можно дальше.
Я сейчас не хочу обсуждать, хорошо это или плохо, я не хочу обсуждать,
чем советское стремление упилить из актуальной действительности
куда подальше отличается от западной архитектуры, также испытывающей
в XX веке неодолимое стремление к полету, я о другом. Мне кажется,
что Александр Дольник пытается посадить этот самолет.
Вполне возможно, я нахожусь во власти русских реалий, и в Украине
все по-другому. Но у нас дело обстоит так. Структура российской
экономики и российской власти носят отчетливо феодальный характер.
Хозяин градообразующего предприятия по своим функциям не отличается
от какого-нибудь средневекового маркграфа, который владеет городом
и регулирует все происходящие в нем процессы. У него есть дружина,
есть купцы, есть вассалы и т.д., и каждый имущий власть и деньги
совсем не склонен это скрывать. Кортежи машин власть имущих напоминают
средневековые процессии, строго в соответствии с рангом эти машины
мигают нужным количеством лампочек и то сурово, по-баронски, ухают,
то истошно, по-маркизовски, взизгивают. Это в корне отличается от
современной западной этики бизнеса и власти, зато очень похоже на
этику бизнеса и власти эпохи западного средневековья.
С одним существенным отличием. Наш нобилитет владеет не землей.
В феодальный лен теперь входит, скажем, металлургический завод,
или нефтяное месторождение, или группа машиностроительных мероприятий.
Это феод на основе промышленности. Так вот, эти промышленники вовсе
не хотят упилить от своей промышленности куда подальше. Она - основа
их гордости, основа их самостояния. Они не рассматривают ее как
средство улететь отсюда в светлое завтра. Они рассматривают ее как
средство крепко стоять на земле сегодня.
Мне кажется, что именно этот дух феодальной гордости за промышленный
город Днепропетровск отчасти выражает архитектура Дольника. В ней
есть вкус тяжелой индустрии. В ней есть грубость промышленного здания.
В ней есть яркость и острота фактур, масс, пространств. В ней есть
романтика феодальных городов, выстроенных на базе бывшей советской
промышленности. В ней есть риск висячих мостов и крутых лестниц,
передвигаясь в ней, ты время от времени зависаешь над пропастью.
Но это пропасть между двумя твердями, и итоговая цель этой архитектуры
- предоставить тебе возможность прочно утвердиться в пространстве.
Тот элемент «воспоминаний о классике», который входит в плоть этой
архитектуры, имеет принципиально иной смысл, чем в итальянском постмодерне.
Это не попытка увидеть сквозь техногенную архитектуру предшествующую
классическую традицию. Это попытка сделать классику на основе промышленной
эстетики. В металлоконструкциях обнаружить не возможность полета
в Космос, не выход в бестелесность, но тяжесть физического тела
и соотношения несущего и несомого.
Для меня центральной вещью Дольника является его синагога и созданный
им проект музея Холокоста. Этот проект музея теперь особенно интересен,
потому что очень четко проясняет особенности его архитектурного
языка. Он сделан после либескиндовского проекта музея в Берлине,
и если вдуматься, является очень жесткой ему альтернативой. Два
пути, две лестницы ведут в центральное пространство, и в нем все
сходится к разрушенному обелиску. Сами пути - трудная, «опасная»
лестница, проход по ней создает физический дискомфорт. Сам обелиск
- трудная, «опасная» форма камней, заполняющих габионную сетку.
Та же тема трудности и опасности пути, разрушенной формы присутствует
и в музее Даниэля Либескинда. Но при этом понимание пространства,
массы, чувства архитектуры принципиально различаются.
Обелиск Дольника разрушен, но он стремится проявить свою форму.
Его композиция сложна и в чем-то иррациональна, но она стремится
к ясному центру. Его пространство носит черты сакральности, но оно
не потусторонне, это не пространство сна, ночного кошмара, которое
создано в либескиндовском музее.
Дольник верит, что сакрализации поддается здешнее, посюстороннее
пространство. Он верит, что выразительность и гармония достижимы,
исходя из здешних, посюсторонних категорий - массы, фактуры, тактильного
ощущения. Это очень естественное для традиционной архитектуры убеждение
сегодня - большая редкость. Он верит, что можно не символизировать
преображение мира, но реально его преображать. Именно поэтому он,
может быть, и ставит себе задачу преобразить целый город. В одиночку.
Героический архитектор.
|